СМИ о нас
| 30.05.25 | 29.05.2025 ICT.Moscow. В Москве решили прикладные задачи на квантовом компьютере с применением ИИ |
Исследователи из Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и Российского квантового центра продемонстрировали решение прикладных задач на квантовом компьютере с применением алгоритмов машинного обучения. Ученые использовали процессор на основе ионов иттербия и разделили с его помощью написанные от руки изображения нуля и единицы, а также графов.
В процессе работы исследователи экспериментировали с квантовыми цепями, что помогло улучшить качество вычислений. Алгоритм обучался на небольшом наборе данных, где каждое изображение уже имело правильный ответ. В результате квантовый компьютер правильно определил все цифры как на обучающих, так и на тестовых картинках.
Ожидается, что в дальнейшем подобная технология квантовой классификации сможет применяться для множества практических задач. Например, в медицине — для автоматического анализа рентгеновских снимков и данных МРТ и КТ, в области генетики и биоинформатики — для проверки последовательности ДНК, в химии — для поиска новых молекулярных структур и моделирования каталитических процессов, а также в финансовой сфере — для выявления сложных закономерностей в рыночных данных.
В 2025 году в Российском квантовом центре планируют представить несколько 50-кубитных квантовых компьютеров, а их полезность ученые рассчитывают увидеть к 2030 году.
| 30.05.25 | 29.05.2025 Трешбокс. В России «скрестили» квантовый компьютер и машинное обучение |

Сотрудники Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ) впервые в нашей стране продемонстрировали возможность решения прикладных задач на квантовом компьютере с использованием алгоритмов машинного обучения. В демонстрации был задействован процессор на основе ионов иттербия (Yb+), с помощью которого учёные разделили написанные от руки изображения нуля и единицы.
«На данный момент важный вызов — это тестирование методов квантовых вычислений на различных прикладных задачах. В частности, один из главных результатов нашей работы — применение этих алгоритмов в сочетании с технологией машинного обучения», — рассказал один из участников исследования, научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ Алексей Федоров.
При этом авторы проекта утверждают, что подобные эксперименты нельзя назвать чем-то сверхъестественным, они проводились и ранее. Оригинальным является подход российских учёных, которые сравнили различные способы кодирования данных в квантовые состояния и определили наиболее эффективный вариант.
В ходе работы специалисты использовали квантовые цепи, представляющие собой один из методов реализации алгоритмов для снижения числа шумных операций и повышения качества вычислений. Искусственный интеллект обучался на крайне малом наборе данных, где каждое изображение имело правильный ответ: единица или ноль. Это помогло квантовому компьютеру правильно определить все тестовые картинки, что в свою очередь доказало — даже небольшие и маломощные компьютеры подобного типа могут решать прикладные задачи с использованием искусственного интеллекта.
В будущем, как считает директор ФИАН Николай Колачевский, такие «навыки» можно, например, использовать в медицине, чтобы анализировать рентгеновские снимки, данные МРТ и КТ.
«В области генетики и биоинформатики квантовые алгоритмы смогут проверять последовательности ДНК, выявляя мутации и предсказывая их влияние на организм. Химия получит инструмент для поиска новых молекулярных структур и моделирования каталитических процессов. В финансовой сфере квантовые алгоритмы смогут находить сложные закономерности в рыночных данных, улучшая прогнозирование и снижая риски», — пояснил Николай Колачевский.
Кроме того, подобная технология станет дополнением при разработке систем искусственного интеллекта, когда алгоритмы машинного обучения тесно связаны с классическими методами.
https://trashbox.ru/link/2025-05-29-kvantovyj-kompyuter-i-ii
| 30.05.25 | 29.05.2025 Поиск. Квантовый прорыв из России. Компьютер на ионах иттербия распознал рукописные цифры |

Российские учёные сделали значительный шаг к практическому применению квантовых технологий: впервые они продемонстрировали решение прикладных задач с использованием алгоритмов машинного обучения на квантовом компьютере. Разработанный на базе ионов иттербия процессор справился с классификацией рукописных изображений и графов, доказав, что даже маломощные квантовые системы могут быть полезны в реальных сценариях.
Исследование провели специалисты ФИАН и Российского квантового центра. Они использовали квантовые цепи, чтобы минимизировать ошибки и шум в процессе вычислений. Алгоритм обучался на небольшом наборе данных с правильными ответами и успешно распознавал образы как в тренировочной, так и в тестовой выборке. Особенностью подхода стало тестирование различных способов кодирования информации в квантовые состояния, что позволило выбрать наиболее эффективную стратегию.
"Один из главных результатов нашей работы — применение квантовых алгоритмов в сочетании с технологией машинного обучения."
– Алексей Федоров, Российский квантовый центр
По словам директора ФИАН Николая Колачевского, квантовая классификация может использоваться в самых разных областях: от диагностики заболеваний на основе медицинских изображений до анализа ДНК, моделирования химических процессов и оценки рисков на финансовых рынках. В будущем квантовые вычисления могут стать неотъемлемой частью гибридных систем искусственного интеллекта, значительно ускоряя и повышая точность обработки данных.
Источник: ФИАН
| 30.05.25 | 29.05.2025 Ferra.ru. Российские ученые объединили квантовый компьютер и ИИ |
Эксперимент показал реальные перспективы технологии.
Российские ученые совершили важный шаг в развитии квантовых технологий. Специалисты из Физического института имени Лебедева и Российского квантового центра первыми в мире успешно применили алгоритмы машинного обучения на квантовом компьютере. В эксперименте использовался процессор на основе ионов иттербия.
/imgs/2025/05/29/14/6834497/3be1305e3ee7f5d0d6813d22662f50b7b235362b.jpg)
© Ferra.ru
Ученым удалось научить квантовую систему распознавать рукописные изображения цифр 0 и 1, а также классифицировать математические графы. Как пояснили исследователи, главная ценность работы — в оригинальном подходе к кодированию данных в квантовые состояния, что позволило повысить эффективность вычислений.
Эксперимент проводился с использованием квантовых цепей — специальных алгоритмов, которые уменьшают количество ошибок при вычислениях. Компьютер успешно справился с задачей, правильно определив все цифры как в обучающей выборке, так и в тестовых данных. Это доказывает, что даже небольшие квантовые процессоры уже способны решать практические задачи.
По словам директора ФИАН Николая Колачевского, разработанная технология квантовой классификации найдет применение в различных областях. В медицине она может использоваться для анализа медицинских снимков, в генетике — для изучения мутаций ДНК. Перспективно применение в химии для моделирования молекулярных структур и в финансах для анализа рыночных данных.
| 30.05.25 | 29.05.2025 Runews24. Российские физики впервые интегрировали квантовый компьютер и машинное обучение |
Прорыв года: Физики из РФ впервые «поженили» квантовый компьютер и нейросети
Российские ученые добились значительного прорыва, впервые в стране успешно применив квантовый компьютер для решения практической задачи в области машинного обучения, о чем сообщило информационное агентство ТАСС. В ходе проведенных экспериментов исследователи использовали специализированный квантовый процессор, созданный на основе ионов иттербия, для выполнения таких задач, как классификация бинарных изображений и анализ различных графовых структур.

Фото: freepik, Источник: togliatti24.ru
Важной частью их научной работы стало тщательное изучение и сравнение различных методов представления исходных данных в квантовых состояниях, что позволило выявить наиболее продуктивный и эффективный подход для этих целей. Разработанный и обученный на относительно небольшом количестве предварительно размеченных изображений квантовый алгоритм продемонстрировал высокую точность классификации как на обучающей, так и на контрольной (тестовой) выборках данных. Этот успешный результат наглядно показывает, что даже современные квантовые процессоры, обладающие пока еще ограниченной по сравнению с классическими компьютерами вычислительной мощностью, уже способны эффективно справляться с несложными, но практически значимыми задачами в сфере машинного обучения.
Данное пионерское достижение российских физиков в области квантового машинного обучения открывает широкие перспективы для будущего, потенциально позволяя значительно расширить возможности искусственного интеллекта за счет сокращения времени обучения сложных нейронных сетей и повышения точности обработки больших массивов данных в самых разных отраслях, от медицины до финансов.
Современные научные исследования показывают, что Великая Китайская стена была построена на 300 лет раньше, чем считалось ранее. Параллельно с этим медицинская наука находит новые способы продления жизни людей с хроническими заболеваниями, например, с помощью метформина при диабете.
| 30.05.25 | 29.05.2025 Наука Mail. Российские физики впервые совместили квантовый компьютер и машинное обучение |
Проведенный эксперимент показал, что даже небольшие квантовые процессоры способны эффективно решать практические задачи. Такие технологии могут применяться в медицине, биоинформатике, химии и финансах.
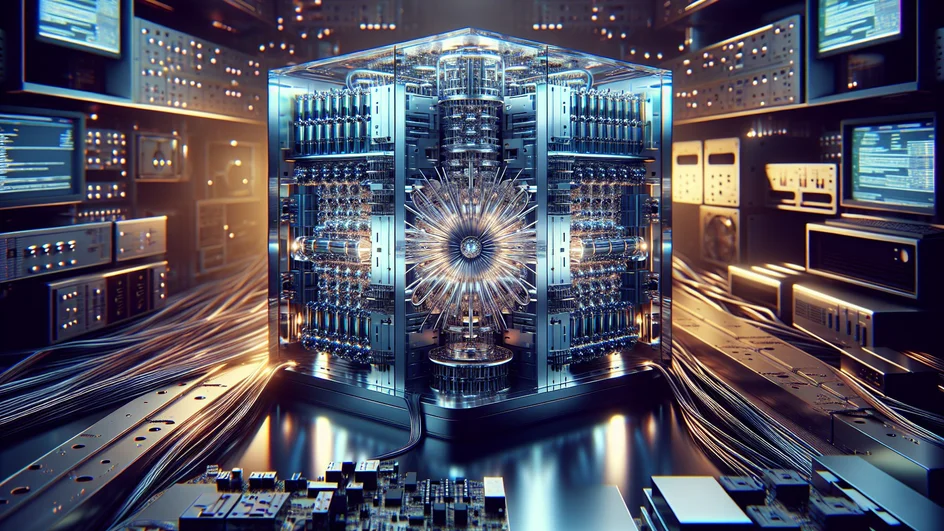
Физики запутывали кубиты, чтобы ионы достигли квантового состояния
Источник: iXBT.com
Ученые Физического института имени П.Н. Лебедева (ФИАН) и Российского квантового центра (РКЦ) первыми в стране представили решение прикладных задач с помощью квантового процессора на ионах иттербия (Yb+). В пресс-службе института рассказали, что компьютер разделял написанные от руки изображения нулей, единиц и графов.
Для достижения результата исследователи применяли алгоритмы машинного обучения, реализованные на квантовом процессоре. В ходе эксперимента использовали метод support vector machine (SVM), популярный для классификации. Благодаря тому, что сравнение данных, также именуемое «ядерной частью» алгоритма, выполняли на квантовом процессоре, разработчикам удалось эффективно обрабатывать сложные изображения.

Квантовые компьютеры способны проводить вычисления, которые недоступны самым мощным классическим суперкомпьютерам
Источник: Fergal Phillips
Один из участников исследования, научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ Алексей Федоров объяснил, что для перевода ионов в квантовое состояние создавались суперпозиции и проводились операции запутывания кубитов (наименьшей единицы информации в квантовом компьютере). Квантовые состояния отдельных ионов изменялись с помощью лазеров и детекторов излучения.
По завершении вычислений авторы исследования измеряли положение иона, и на основе полученных сведений интерпретировали результаты работы алгоритмов машинного обучения. Физики также сравнили разные способы кодирования данных в квантовые состояния и выбрали самый эффективный. Алгоритм обучался на небольшом количестве информации и безошибочно классифицировал изображения.
В результате эксперимента выяснилось, что даже маленькие квантовые процессоры способны решать важные практические задачи. Эксперты считают, что такие технологии найдут применение в медицине (анализ МРТ и рентгена), биоинформатике, химии и финансах для поиска закономерностей и ускорения вычислений.
https://science.mail.ru/news/2821-kvantovyj-kompyuter-i-mashinnoe-obuchenie/
| 30.05.25 | 29.05.2025 ВКонтакте Наука.рф. Российские физики запустили машинное обучение на квантовом компьютере |
Одно из первых в мире решений прикладных задач с помощью квантового компьютера продемонстрировали отечественные учёные.
Для того чтобы разделить написанные от руки изображения нуля и единицы, а также математические объекты — графы — они использовали процессор на основе ионов иттербия и алгоритмы машинного обучения.
Эксперимент, поставленный специалистами ФИАН и Российского квантового центра, показал, что даже небольшие квантовые процессоры способны решать такие практически важные задачи, как классификация изображений. В будущем, уверены учёные, квантовые процессоры будут выполнять более сложные вычисления.
| 29.05.25 | 29.05.2025 Одноклассники Наука.рф. Российские физики запустили машинное обучение на квантовом компьютере |
Одно из первых в мире решений прикладных задач с помощью квантового компьютера продемонстрировали отечественные учёные.
Для того чтобы разделить написанные от руки изображения нуля и единицы, а также математические объекты — графы — они использовали процессор на основе ионов иттербия и алгоритмы машинного обучения.
Эксперимент, поставленный специалистами ФИАН и Российского квантового центра, показал, что даже небольшие квантовые процессоры способны решать такие практически важные задачи, как классификация изображений. В будущем, уверены учёные, квантовые процессоры будут выполнять более сложные вычисления.
| 29.05.25 | 29.05.2025 Телеграм-канал Наука.рф. Российские физики запустили машинное обучение на квантовом компьютере |
Одно из первых в мире решений прикладных задач с помощью квантового компьютера продемонстрировали отечественные учёные.
Для того чтобы разделить написанные от руки изображения нуля и единицы, а также математические объекты — графы — они использовали процессор на основе ионов иттербия и алгоритмы машинного обучения.
Эксперимент, поставленный специалистами ФИАН и Российского квантового центра, показал, что даже небольшие квантовые процессоры способны решать такие практически важные задачи, как классификация изображений. В будущем, уверены учёные, квантовые процессоры будут выполнять более сложные вычисления.
| 29.05.25 | 29.05.2025 ИА Кулик. Российские физики впервые объединили квантовый компьютер и машинное обучение |
Учёные ФИАН и Российского квантового центра впервые использовали квантовый компьютер с алгоритмами машинного обучения для распознавания рукописных цифр и математических графов.
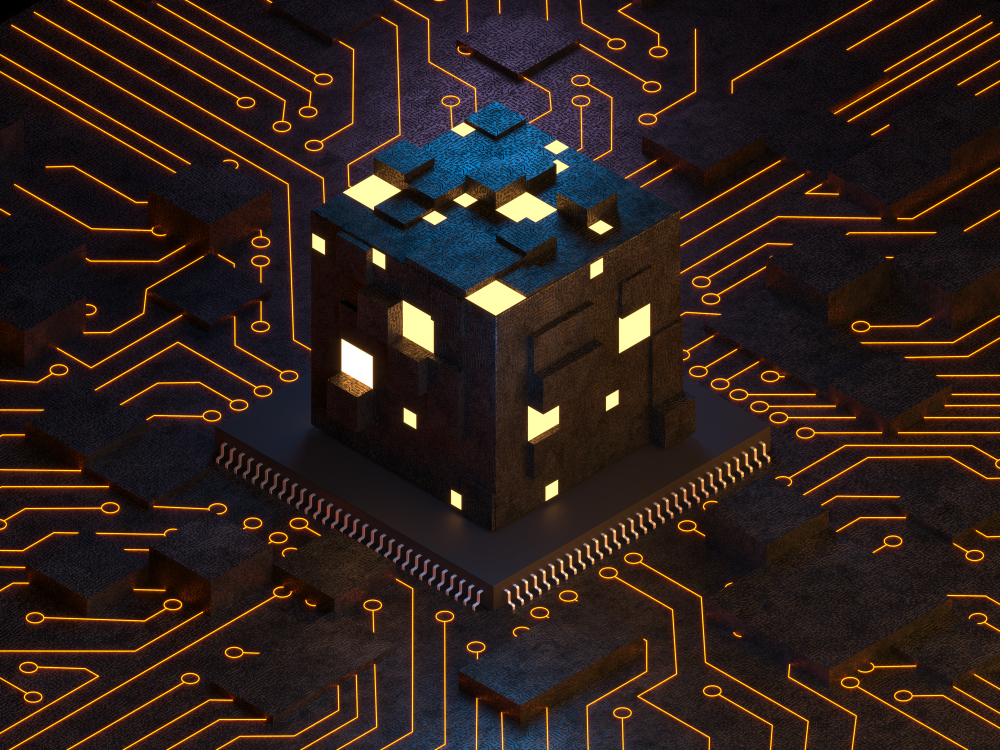
freepik.com
Учёные ФИАН и Российского квантового центра впервые использовали квантовый компьютер с алгоритмами машинного обучения для распознавания рукописных цифр и математических графов.
Руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ Алексей Федоров отметил, что главная цель — тестирование квантовых вычислений с применением машинного обучения.
Российские учёные предложили оригинальный подход, сравнив способы кодирования данных в квантовые состояния и выбрав наиболее эффективный, сообщает ТАСС.
Для повышения качества вычислений использовались квантовые цепи — способ уменьшения шумных операций. Обучение проходило на небольшом наборе данных с известными ответами, и квантовый компьютер правильно классифицировал все тестовые изображения. Это показывает, что даже малые квантовые процессоры способны решать важные задачи классификации.
Директор ФИАН Николай Колачевский отметил, что технология квантовой классификации найдёт применение в медицине для анализа рентгеновских и МРТ-снимков, в генетике — для выявления мутаций ДНК, в химии — для поиска новых молекул, а в финансах — для улучшения прогнозов и снижения рисков.
В будущем квантовые вычисления дополнят классические методы в искусственном интеллекте, ускоряя обучение нейросетей и повышая точность обработки данных, что откроет новые возможности в науке и технологиях.


